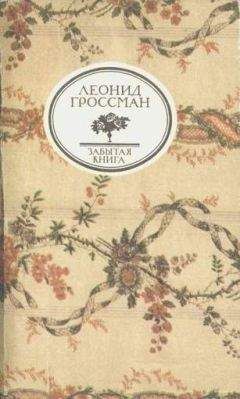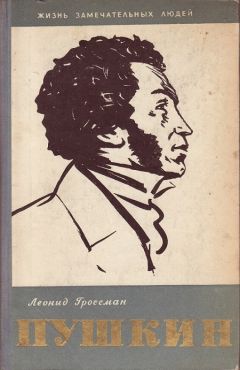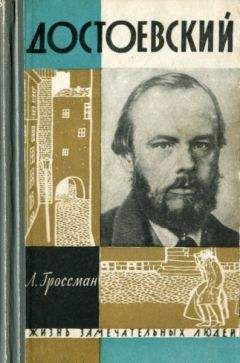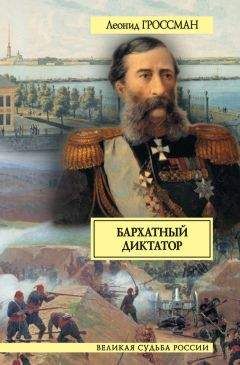Леонид Гроссман - Записки д`Аршиака, Пушкин в театральных креслах, Карьера д`Антеса
Незнакомец поднял голову. И над грудой этих пылающих звезд я увидел огромные светлые глаза, блиставшие ярче всех драгоценностей.
Весь облик этого безмолвного гостя чем-то сразу поразил меня. Он смотрел немного вбок и вверх, и это придавало его лицу особое выражение какого-то возвышенного созерцания. Прекрасные глаза, с громадными расширенными зрачками, словно затканными золотыми искрами, были кристально прозрачны и таинственно глубоки. Их, казалось, ширила и проясняла неведомая и торжественная дума, озарявшая изнутри весь его неправильный облик.
— Как я рада, виконт, что вы собрались ко мне до общего съезда, — произнесла наконец графиня Фикельмон, обернувшись ко мне и ласково протягивая мне руку.
Я переступил порог гобеленовой гостиной.
— Виконт д'Аршиак, атташе при посольстве короля французов, — назвала меня посланница, кинув беглый взгляд на незнакомца.
И затем, переведя на меня свою сияющую улыбку, произнесла таким же ровным тоном о своем госте:
— Monsieur де Пушкин, двора его величества. Придворный поднялся и с легкой непринужденностью чуть-чуть поклонился мне. «Так вот этот ярый вольтерьянец, дразнящий своим пером имперских министров, — подумалось мне, — однако он нисколько не похож на якобинца».
— Вам, как представителю французской нации, — произнес он, протягивая мне руку, — могу сказать, что больше всего в жизни я люблю поэтов старой Франции и самая пылкая мечта моя — это побывать в Париже.
Его грудной и вибрирующий голос так же пленял, как спокойная и светлая улыбка, с которой он произносил эти приветливые слова. Я отвечал обычными любезностями, и мы продолжали беседу сидя у круглого стола с мерцающими бокалами.
Из двери во внутренние апартаменты вошел граф Фикельмон. Он присел к нашему столу и, как всегда, сообщил ряд интересных сведений.
— Вас, вероятно, удивляет, виконт, это обилие драгоценностей. Венские ювелиры и чешские гранильщики чрезвычайно заинтересованы добычей драгоценных камней на Урале. Я имею особое поручение от ряда австрийских фирм и, как видите, временно коллекционирую образцы этих прелестных кристаллов.
И он рассказал мне, что в последние годы драгоценные камни, и особенно алмазы, были модным предметом в кругу русской знати. Незадолго перед тем член прусской Академии наук барон Гумбольдт, по пути на Урал и Алтай со своей ученой экспедицией, заявил в Петербурге самой императрице, что не вернется к ней без русских алмазов. И действительно, тем же летом министр финансов Канкрин получил извещение, что на уральских золотоносных россыпях среди кристаллов колчедана и галек кварца был найден первый русский алмаз. Это произвело сильное впечатление. И хотя добыча драгоценного камня оказалась ничтожной, все ожидали раскрытия новой богатой россыпи.
Мне вскоре действительно пришлось убедиться, что алмазы были в моде в Петербурге, и даже престарелые сановники, садясь за бостон, охотно вспоминали, как при Екатерине расплачивались за проигрыш в макао бриллиантами. «Представьте себе, — рассказывала мне старуха Голицына, — столы, покрытые черным бархатом, кедровый ящик, из которого черпали золотой ложечкой по алмазу за каждую девятку. Это было похоже на „Тысячу и одну ночь“…»
Пока Фикельмон читал свою маленькую лекцию, я мог внимательно рассмотреть заинтересовавшего меня посетителя графини.
Его некрасивое лицо было прекрасно. Несмотря на тяжелые губы, выдвинутую челюсть и неправильный излом носа, несмотря даже на обильную курчавую растительность вокруг всего лица, оно поражало странным сочетанием изящества и энергии. Тонкий овал и нежный, почти девичий подбородок, светлый, прекрасно отчеканенный лоб, живость и подвижность выражения, матовая чистота и даже бледность кожи, яркий блеск белоснежных зубов — все это придавало его облику благородную и пленительную утонченность. Редкие, еле заметные брови сообщали ему странное сходство с портретами безбровых женщин Леонардо да Винчи. Но лучше всего был взгляд — пытливо-вдумчивый и временами доверчиво-беспечный, то углубленно-мечтательный, как у мыслителя, то наивно-смеющийся, как у ребенка.
Во время беседы он поднимал иногда широким и волнообразным жестом свою руку, небольшую и необыкновенно красивую. Длинные нервные пальцы с отточенными ногтями трепетали под батистом его манжет, интригуя двумя загадочными темными перстнями не то масонского, не то древнерыцарского типа.
Пока Фикельмон говорил, Пушкин медленно шевелил груду мелких драгоценных осколков, рассыпанных на двух фарфоровых тарелках. На одной возвышались искрящимся конусом мелкие алмазы, на другой рубины. Тонкие пальцы погружались в серебрящиеся искры или же пропускали сквозь свою живую сеть алый поток сверкающих и твердых капель. Продолжая беседу, все мы невольно смотрели на эти каскады струящихся драгоценностей, замагнетизированные их живым и дробящимся блеском.
— Что напоминает вам это? — спросила Долли Фикельмон, прикоснувшись к руке своего гостя, погруженной в играющие радугой алмазные осколки.
И тут же отвечала, как бы отдаваясь какой-то мечте или воспоминанию:
— Пальцы, хватающие снег, девственный, замерзающий, оцепенелый и все же рассыпающийся осколками и искрами снег…
— А это, в таком случае, не напоминает ли капель крови, струящихся из раны? — произнес Пушкин, роняя сквозь пальцы правой руки горсточку вспыхивающих рубинов. — Снег и кровь — какое сочетание…
— Что за мрачные сопоставления, — смеясь, упрекнула хозяйка, — я, напротив того, верю, что алмазы имеют тайное благодетельное влияние на судьбу человека, — не правда ли, виконт?
— По преданию, — отвечал я, — Карл Смелый брал с собою в битвы все свои алмазы… — И это не приносило ему счастья? — Он выходил обычно победителем из всех сражений, пока, впрочем, не пал в битве при Нанси под шлемом, украшенным величайшим алмазом. — Какая прелесть эти старинные предания! — воскликнула графиня. — Жуковский недавно рассказывал мне, что, по представлению восточных поэтов, тот, кто носит алмаз, угоден царям и огражден от козней врагов.
— Вы, кажется, хотите намекнуть, что мне следует заменить изумруд на этом перстне алмазом, — произнес с задумчивой улыбкой Пушкин.
— Я для этого слишком уверена в благоволении к вам императора, — отвечала хозяйка, — не назвал ли он вас умнейшим человеком в России? Monsieur Пушкин — историограф его величества, — снова пояснила мне графиня.
— У нас в историографы возводят великих поэтов, — заметил я, — Людовик XIV даровал это звание Расину…
— Очевидно, император Николай следует этому примеру, — улыбнулась графиня.
— Не думаю, — отвечал русский историограф, — тем более что в настоящее время я ведь только смиренный прозаик и пока еще не облечен титулом покойного Карамзина.
— Историческая проза может достигать высокохудожественных форм, — заметил я, — вспомните Тацита…
— О, конечно, особенно если тема так увлекательна, как гибель римских цезарей. Ведь Тацит — бич тиранов, и, кажется, потому он так не нравился Наполеону…
Беседа продолжалась в этом тоне. Заметив во мне интерес к литературе, Пушкин высказал ряд живых суждений о нашей поэзии, обнаружив замечательные познания во французской словесности. Он восхищался созвездием гениев, покрывших блеском конец семнадцатого века; он прочел мне на память несколько чудесных стихов Андре Шенье, он с увлечением говорил о прелестных сказках Мюссе, предсказывая ему будущность романтического трагика. Он метко и кстати цитировал то элегическую думу Жозефа Делорма, то острый афоризм Шамфора. Все новинки парижской книготорговли были ему известны.
Когда я удивился обширным познаниям поэта в нашей словесности, он с улыбкой отвечал мне, как оказалось, словами одного из своих героев:
Родился я под небом полунощным.
Но мне знаком латинской музы голос,
И я люблю парнасские цветы.[15]
— Это у нас семейное, — продолжал он, — отец мой знает всего Мольера наизусть, уверяю вас. Что же касается до парижских новинок, то семья графини снабжает меня всеми запрещенными книгами, — отвечал он. — А вот и мой главный поставщик.
В комнату входила полная пожилая дама в светлом вечернем наряде с широким придворным декольте, обнажающим ее скульптурные плечи.
— Maman, je vous presente Ie vicomte d'Archiac, attache a d'ambassade de France,[16] — произнесла графиня Фикельмон.
Это была, как я узнал к концу вечера, известная в петербургском свете госпожа Хитрово, дочь фельдмаршала Кутузова и теща австрийского посла. В эпоху реставрации она была женою русского посланника при Тосканском дворе и с тех пор славилась своей осведомленностью в политических делах Европы.